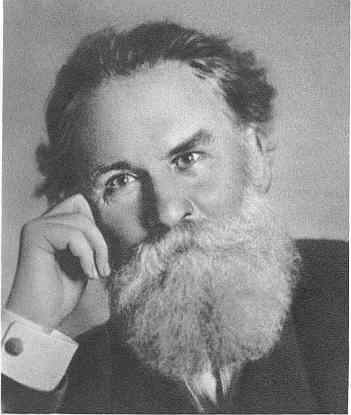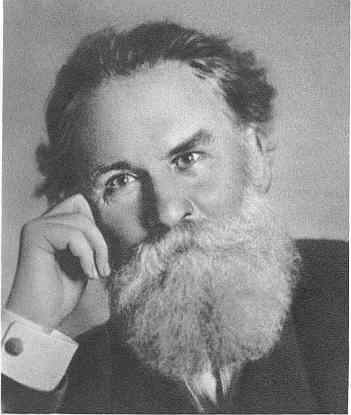| |
Сны Чанга. Иван Бунин.
Не все ли равно, про кого говорить? Заслуживает того каждый из живших на
земле.
Некогда Чанг узнал мир и капитана, своего хозяина, с которым соединилось
его земное существование. И прошло с тех пор целых шесть лет, протекло,
как песок в корабельных песочных часах.
Вот опять была ночь - сон или действительность? - и опять наступает утро
- действительность или сон? Чанг стар, Чанг пьяница - он все дремлет.
На дворе, в городе Одессе, зима. Погода злая, мрачная, много хуже даже
той, китайской, когда Чанг с капитаном встретили друг друга. Несет
острым мелким снегом, снег косо летит по ледяному, скользкому асфальту
пустого приморского бульвара и больно сечет в лицо каждому еврею, что,
засунувши руки в карманы и сгорбившись, неумело бежит направо или
налево. За гаванью, тоже опустевшей, за туманным от снега заливом слабо
видны голые степные берега. Мол весь дымится густым серым дымом: море с
утра до вечера переваливается через мол пенистыми чревами. Ветер звонко
свищет в телефонных проволоках...
В такие дни жизнь в городе начинается не рано. Не рано просыпаются и
Чанг с капитаном. Шесть лет - много это или мало? За шесть лет Чанг с
капитаном стали стариками, хотя капитану еще и сорока нет, и судьба их
грубо переменилась. По морям они уже не плавают - живут "на берегу", как
говорят моряки, и не там, где жили когда-то, а в узкой и довольно
мрачной улице, на чердаке пятиэтажного дома, пахнущего каменным углем,
населенного евреями, из тех, что в семью приходят только к вечеру и
ужинают в шляпах на затылок. Потолок у Чанга с капитаном низкий, комната
большая и холодная. В ней всегда кроме того сумрачно: два окна, пробитые
в наклонной стене-крыше, невелики и круглы, напоминают корабельные.
Между окнами стоит что-то вроде комода, а у стены налево старая железная
кровать; вот и все убранство этого скучного жилища, если не считать
камина, из которого всегда дует свежим ветром.
Чанг спит в уголке за камином. Капитан ни кровати. Какова эта чуть не до
полу продавленная кровать и каков матрац на ней, легко представит себе
всякий, живавший на чердаках, а нечистая подушка так жидка, что капитану
приходится подкладывать под нее свою тужурку. Однако и на этой кровати
спит капитан очень спокойно, лежит, - на спине, с закрытыми глазами и
серым лицом, - неподвижно, как мертвый. Что за чудесная кровать была у
него прежде! Ладная, высокая, с ящиками, с постелью глубокой и уютной, с
тонкими и скользкими простынями и холодящими белоснежными подушками! Но
и тогда, даже в качку, не спал капитан так крепко, как теперь: за день
он сильно устает, да и о чем ему теперь тревожиться, что он может
проспать и чем может обрадовать его новый день? Было когда-то две правды
на свете, постоянно сменявших друг друга: первая та, что жизнь
несказанно прекрасна, а другая - что жизнь мыслима лишь для сумасшедших.
Теперь капитан утверждает, что есть, была и во веки веков будет только
одна правда, последняя, правда еврея Иова, правда мудреца из неведомого
племени, Экклезиаста. Часто говорит теперь капитан, сидя в пивной:
"Помни, человек, с юности твоей те тяжелые дни и годы, о коих ты будешь
говорить: нет мне удовольствия в них!" - Все же дни и ночи попрежнему
существуют, и вот опять была ночь и опять наступает утро. И капитан с
Чангом просыпаются.
Но, проснувшись, капитан не открывает глаз. Что он в эту минуту думает,
не знает даже Чанг, лежащий на полу возле нетопленного камина, из
которого всю ночь пахло морской свежестью. Чангу известно только одно:
то, что капитан пролежит так не менее часа. Чанг, поглядев на капитана
уголком глаза, снова смыкает веки и снова задремывает. Чанг тоже
пьяница, он тоже по утрам мутен, слаб и чувствует мир с тем томным
отвращением, которое так знакомо всем плавающим на кораблях и страдающим
морской болезнью. И потому, задремывая в этот утренний час, Чанг видит
сон томительный, скучный...
Видит он:
Поднялся на палубу парохода старый, кислоглазый китаец, опустился на
корячки, стал скулить, упрашивать всех проходящих мимо, чтобы купили у
него плетушку тухлых рыбок, которую он принес с собою. Был пыльный и
холодный день на широкой китайской реке. В лодке под камышовым парусом,
качавшейся на речной мути, сидел щенок, - рыжий кобелек, имевший в себе
нечто лисье и волчье, с густым жестким мехом вокруг шеи, - строго и умно
водил черными глазами по высокой железной стене пароходного бока и
торчком держал уши.
- Продай лучше собаку! - весело и громко, как глухому, крикнул китайцу
молодой капитан парохода, без дела стоявший на своей вышке.
Китаец, первый хозяин Чанга, вскинул глаза кверху, оторопел и от крика и
от радости, стал кланяться и цокать: "Ve'y good dog, ve'y good!" - И
щенка купили, - всего за целковый, - назвали Чангом, и поплыл он в тот
же день со своим новым хозяином в Россию и вначале, целых три недели,
так мучился морской болезнью, был в таком дурмане, что даже ничего: не
видел: ни океана, ни Сингапура, ни Коломбо...
В Китае начиналась осень, погода была трудная. И стало мутить Чанга,
едва вышли в устье. Навстречу несло дождем, мглою, сверкали по водной
равнине барашки, качалась, бежала, всплескивалась серо-зеленая зыбь,
острая и бестолковая, а плоские прибрежья расходились, терялись в тумане
- и все больше, больше становилось воды вокруг. Чанг, в своей
серебрившейся от дождя шубке, и капитан, в непромокаемом пальто с
поднятым капюшоном, были на мостике, высота которого чувствовалась
теперь еще сильнее, чем прежде. Капитан командовал, а Чанг дрожал и
воротил от ветра морду. Вода ширилась, охватывала ненастные горизонты,
мешалась с мглистым небом. Ветер рвал с крупной шумной зыби брызги,
налетал откуда попало, свистал в реях и гулко хлопал внизу парусиновыми
тентами, меж тем как матросы, в кованных сапогах и мокрых накидках,
отвязывали, ловили и скатывали их. Ветер искал, откуда бы покрепче
ударить, и как только пароход, медленно ему кланявшийся, взял покруче
вправо, поднял его таким большим, кипучим валом, что он не удержался,
рухнул с переката вала, зарываясь в пену, а в штурманской рубке с
дребезгом и звоном полетела на пол кофейная чашка, забытая на столике
лакеем... И с этой минуты пошла музыка!
Дни потом были всякие: то огнем жгло с сияющей лазури солнце, то горами
громоздились и раскатывались ужасающим громом тучи, то потопами
обрушивались на пароход и на море буйные ливни; но качало, качало
непрерывно, даже и во время стоянок. В конец замученный, ни разу за
целых три недели не покинул Чанг своего угла в жарком полутемном
коридоре среди пустых кают второго класса, на юте, возле высокого порога
двери на палубу, отворявшейся только раз в сутки, когда вестовой
капитана приносил Чангу пищу. И от всего пути до Красного моря остались
в памяти Чанга только тяжкие скрипы переборок, дурнота и замирание
сердца, то летевшего вместе с дрожащей кормой куда-то в пропасть, то
возносившегося в небо, да колючий, смертный ужас, когда об эту высоко
поднятую и вдруг снова завалившуюся на сторону корму, грохочущую винтом
в воздухе, с пушечным выстрелом расшибалась целая водяная гора, гасившая
дневной свет в иллюминаторах и потом стекавшая по их толстым стеклам
мутными потоками. Слышал больной Чанг далекие командные крики, гремучие
свистки боцмана, топот матросских ног где-то над головой, слышал плеск и
шум воды, различал полузакрытыми глазами полутемный коридор,
загроможденный рогожными тюками чая, - и шалел, пьянел от тошноты, жары
и крепкого чайного запаха...
Но тут сон Чанга обрывается.
Чанг вздрагивает и открывает глаза: это уже не волна с пушечным
выстрелом ударила в корму - это грохнула где-то внизу дверь, с размаху
кем-то брошенная. И вслед за этим громко откашливается и медленно встает
со своего вдавленного одра капитан. Он натягивает на ноги и
зашнуровывает разбитые башмаки, надевает вынутую из-под подушки черную
тужурку с золотыми пуговицами и идет к комоду, меж тем как Чанг, в своей
рыжей поношенной шубке, недовольно, с визгом зевает, поднявшись с пола.
На комоде стоит начатая бутылка водки. Капитан пьет прямо из горлышка и,
слегка задохнувшись и отдуваясь в усы, направляется к камину, наливает в
плошку, стоящую возле него, водки и для Чанга. Чанг жадно начинает
лакать. А капитан закуривает и снова ложится - ждать того часа, когда
совсем обедняется. Уже слышен отдаленный гул трамвая, уже льется далеко
внизу, на улице, непрерывное цоканье копыт по мостовой, но выходить еще
рано. И капитан лежит и курит. Кончив лакать, ложится и Чанг. Он
вскакивает на кровать, свертывается клубком у ног капитана и медленно
вплывает в то блаженное состояние, которое всегда дает водка.
Полузакрытые глаза его туманятся, он слабо глядит на хозяина и, чувствуя
все возрастающую нежность к нему, думает то, что можно выразить
по-человечески так: "Ах, глупый, глупый! Есть только одна правда на
свете, и если бы ты знал, какая эта чудесная правда!" И опять не то
снится, не то думается Чангу то далекое утро, когда, после мучительного,
беспокойного океана, вошел пароход, плывший из Китая с капитаном и
Чангом, в Красное море...
Снится ему:
Проходя Перим, все медленнее, точно баюкая, размахивался пароход, и впал
Чанг в сладкий и глубокий сон. И вдруг очнулся. И очнувшись, изумился
выше всякой меры: везде было тихо, мерно дрожала и никуда не падала
корма, ровно шумела вода, бежавшая где-то за стенами, теплый кухонный
запах, тянувший из-под двери на палубу, был очарователен... Чанг
привстал и поглядел в пустую кают-компанию: там, в сумраке, мягко
светилось что-то золотисто-лиловое, что-то едва уловимое глазом, но
необыкновенно радостное - там, в солнечно-голубую пустоту, на простор,
на воздух, были открыты задние иллюминаторы, а по низкому потолку
струились, текли и не утекали извилистые зеркальные ручьи... И случилось
с Чангом то же, что не раз случалось в те времена и с его хозяином,
капитаном: он вдруг понял, что существует в мире не одна, а две правды -
одна та, что жить на свете и плавать ужасно, а другая... Но о другой
Чанг не успел додумать: в неожиданно распахнувшуюся дверь он увидел трап
на спардек, черную, блестящую громаду пароходной трубы, ясное небо
летнего утра и быстро идущего из-под трапа, из машинного отделения,
капитана, размытого и выбритого, благоухающего свежестью одеколона, с
поднятыми по-немецки русыми усами, с сияющим взглядом зорких светлых
глаз, во всем тугом и белоснежном. И увидев все это, Чанг так радостно
рванулся вперед, что капитан на лету подхватил его, чмокнул в голову и,
повернув назад, в три прыжка выскочил, на руках с ним, на спардек, на
верхнюю палубу, а оттуда еще выше, на тот самый мостик, где так страшно
было в устье великой китайской реки.
На мостике капитан вошел в штурманскую рубку, а Чанг, брошенный на пол,
немного посидел, трубой распушив по гладким доскам свой лисий хвост.
Сзади Чанга было очень горячо и светло от невысокого солнца. Горячо,
должно быть, было и в Аравии, близко проходившей справа своим золотым
прибрежьем и своими черно-коричневыми горами, своими пиками, похожими на
горы мертвой планеты, тоже глубоко засыпанными сухим золотом, - всей
своей песчано-гористой пустыней, видной необыкновенно четко, так, что,
казалось, туда можно перепрыгнуть. А наверху, на мостике, еще
чувствовалось утро, еще тянуло легкой свежестью, и бодро гулял взад и
вперед помощник капитана, - тот самый, что потом так часто до бешенства
доводил Чанга, дуя ему в нос, - человек в белой одежде, в белом шлеме и
в страшных черных очках, все поглядывавший на поднебесное острие
передней мачты, над которой белым страусовым пером курчавилось тончайшее
облачко... Потом капитан крикнул из рубки: "Чанг! Кофе пить!" И Чанг
тотчас вскочил, обежал рубку и ловко сиганул через ее медный порог. И за
порогом оказалось еще лучше, чем на мостике: там был широкий кожаный
диван, приделанный к стене, над ним висели какие-то блестящие стеклом и
стрелками штуки вроде круглых стенных часов, а на полу стояла
полоскательница с бурдой из сладкого молока и хлеба. Чанг стал жадно
лакать, а капитан занялся делом: он развернул на стойке, помещавшейся
под окном против дивана, большую морскую карту и, положив на нее
линейку, твердо прорезал алыми чернилами длинную полоску. Чанг, кончив
лакать, с молоком на усах, подпрыгнул и сел на стойке возле самого окна,
за которым синела отложным воротом просторная рубаха матроса, стоявшего
спиной к окну перед колесом с рогами. И тут капитан, который, как
оказалось впоследствии, очень любил поговорить, будучи наедине с Чангом,
сказал Чангу:
- Видишь, братец, вот это и есть Красное море. Надо нам с тобой пройти
его поумнее, - ишь, какое оно от островков и рифов пестрое, - надо мне
тебя доставить в Одессу в полной сохранности, потому что там уже знают о
твоем существовании. Я уже проболтался про тебя одной прекапризной
девчонке, похвастался перед ней твоей милостью по такому, понимаешь ли,
длинному канату, что проложен умными людьми на дне всех морей-океанов...
Я, Чанг, все-таки ужасно счастливый человек, такой счастливый, что ты
даже и представить себе не можешь, и потому мне ужасно не хочется
напороться на какой-нибудь из этих рифов, осрамиться до девятой пуговицы
на своем первом дальнем рейсе...
И говоря так, капитан вдруг строго глянул на Чанга и дал ему пощечину:
- Лапы с карты прочь! - крикнул он начальственно. - Не смей лезть на
казенное добро!
И Чанг, мотнув головой, зарычал и зажмурился. Это была первая пощечина,
полученная им, и он обиделся, ему опять показалось, что жить на свете и
плавать - скверно. Он отвернулся, гася и сокращая свои прозрачно-яркие
глаза, и с тихим рычанием оскалил свои волчьи зубы. Но капитан не придал
значения его обиде. Он закурил папиросу и вернулся на диван, вынул из
бокового кармана пикейной куртки золотые часы, отколупнул крепким ногтем
их крышки и, глядя на что-то сияющее, необыкновенно живое, торопливое,
что звонко бежало внутри часов, опять заговорил дружески. Он опять стал
рассказывать Чангу о том, что он везет его в Одессу, на Елисаветинскую
улицу, что на Елисаветинской улице есть у него, у капитана, во-первых,
квартира, во-вторых, красавица-жена и, в-третьих, чудесная дочка, и что
он, капитан, все-таки очень счастливый человек.
- Все-таки, Чанг, счастливый! - сказал капитан, а потом добавил:
- Дочка эта самая, Чанг, девочка, резвая, любопытная, настойчивая, -
плохо тебе будет временами, особливо твоему хвосту! Но если бы ты знал,
Чанг, что это за прелестное существо! Я, братец, так люблю ее, что даже
боюсь своей любви: для меня весь мир только в ней, - ну, скажем, почти в
ней, - а разве так полагается? Да и вообще, следует ли кого-нибудь
любить так сильно? - спросил он. - Разве глупее нас с тобой были все эти
ваши Будды, а послушай-ка, что они говорят об этой любви к миру и вообще
ко всему телесному - от солнечного света, от волны, от воздуха и до
женщины, до ребенка, до запаха белой акации! Или: знаешь ли ты, что
такое Тао, выдуманное вами же, китайцами? Я, брат, сам плохо знаю, да и
все плохо знают это, но, насколько можно понять, ведь это что такое?
Бездна-Праматерь, она же родит и поглощает и, поглощая, снова родит все
сущее в мире, а иначе сказать - тот Путь всего сущего, коему не должно
противиться ничто сущее. А ведь мы поминутно противимся ему, поминутно
хотим повернуть не только, скажем, душу любимой женщины, но и весь мир
по-своему! Жутко жить на свете, Чанг, - сказал капитан, - очень хорошо,
а жутко, и особенно таким, как я! Уж очень я жаден до счастья и уж очень
часто сбиваюсь: темен и зол этот Путь, или же совсем, совсем напротив?
И, помолчав, еще прибавил;
- Главная штука ведь в чем? /Когда кого любишь, никакими силами никто не
заставит тебя верить, что может не любить тебя тот, кого ты любишь./ И
вот тут-то, Чанг, и зарыта собака. А как великолепна жизнь, Боже мой,
как великолепна!
Накаляемый уже высоко поднявшимся солнцем и чуть дрожащий на бегу
пароход неустанно разрезал заштилевшее в бездне знойного воздушного
пространства Красное море. Светлая пустота тропического неба глядела в
дверь рубки. Близился полдень, медный порог так и горел на солнце.
Стекловидные валы все медлительнее перекатывались за бортом, вспыхивая
ослепительным блеском и озаряя рубку. Чанг сидел на диване, слушая
капитана. Капитан, гладивший голову Чанга, спихнул его на пол - "нет,
брат, жарко!" - сказал он, - но на этот раз Чанг не обиделся: слишком
хорошо было жить на свете в этот радостный полдень. А потом...
Но тут опять прерывается сон Чанга.
- Чанг, идем! - говорит капитан, сбрасывая ноги с кровати. И опять с
удивлением видит Чанг, что он не на пароходе в Красном море, а на
чердаке в Одессе, и что на дворе и впрямь полдень, только не радостный,
а темный, скучный, неприязненный. И тихо рычит на капитана,
потревожившего его. Но капитан, не обращая на него внимания, надевает
старый форменный картуз и такое же пальто и, запустив руки в карманы и
сгорбившись, идет к двери. Поневоле приходится и Чангу спрыгивать с
кровати. По лестнице капитан спускается тяжело и неохотно, точно в силу
нудной необходимости. Чанг катится довольно быстро: его бодрит еще
неулегшееся раздражение, которым всегда кончается блаженное состояние
после водки...
Да, вот уже два года, изо дня в день, занимаются Чанг с капитаном тем,
что ходят по ресторанам. Там они пьют, закусывают, глядят на других
пьяниц, пьющих и закусывающих рядом с ними, среди шума, табачного дыма и
всякого зловония. Чанг лежит у ног капитана, на полу. А капитан сидит и
курит, крепко положив, по своей морской привычке, локти на стол, ждет
того часа, когда надо будет, по какому-то им самим выдуманному закону,
перекочевать в другой ресторан или кофейню: завтракают Чанг с капитаном
в одном месте, кофе пьют в другом, обедают в третьем, ужинают в
четвертом. Обычно капитан молчит. Но бывает, что встречается капитан с
кем-нибудь из своих прежних друзей и тогда весь день говорит без умолку
о ничтожестве жизни и поминутно угощает вином то себя, то собеседника,
то Чанга, перед которым всегда стоит на полу какая-нибудь посудинка.
Именно так проведут они и нынешний день: нынче они условились
позавтракать с одним старым приятелем капитана, с художником в цилиндре.
А это значит, что будут они сидеть сперва в вонючей пивной, среди
краснолицых немцев, - людей тупых, дельных, работающих с утра до вечера
с тою целью, конечно, чтобы пить, есть, снова работать и плодить себе
подобных, - потом пойдут в кофейню, битком набитую греками и евреями,
вся жизнь которых, тоже бессмысленная, но очень тревожная, поглощена
непрестанным ожиданием биржевых слухов, а из кофейни отправятся в
ресторан, куда стекается всякое человеческое отребье, - и просидят там
до поздней ночи...
Зимний день короток, а за бутылкой вина, за беседой с приятелем он еще
короче. И вот уже побывали Чанг, капитан и художник и в пивной, и в
кофейне, а теперь сидят, пьют в ресторане. И опять капитан, положив
локти на стол, горячо уверяет художника, что есть только одна правда на
свете, - злая и низкая. - Ты посмотри кругом, говорит он, ты только
вспомни всех тех, что ежедневно видим мы с тобой в пивной, в кофейне, на
улице! Друг мой, я видел весь земной шар - жизнь везде такова! Все это
ложь и вздор, чем будто бы живут люди: нет у них ни Бога, ни совести, ни
разумной цели существования, ни любви, ни дружбы, ни честности, - нет
даже простой жалости. Жизнь скучный, зимний день в грязном кабаке, не
более...
И Чанг, лежа под столом, слушает все это в тумане хмеля, в котором уже
нет более возбуждения. Соглашается он или не соглашается с капитаном? На
это нельзя ответить определенно, но раз уж нельзя, значит, дело плохо.
Чанг не знает, не понимает, прав ли капитан; да ведь все мы говорим "не
знаю, не понимаю" только в печали; в радости всякое живое существо
уверено, что оно все знает, все понимает... Но вдруг точно солнечный
свет прорезывает этот туман: вдруг раздается стук палочки по пюпитру на
эстраде ресторана - и запевает скрипка, за ней другая, третья... Они
поют все страстней, все звончее - и через минуту переполняется душа
Чанга совсем иной тоской, совсем иной печалью. Она дрожит от непонятного
восторга, от какой-то сладкой муки, от жажды чего-то - и уже не
разбирает Чанг, во сне он или наяву. Он всем существом своим отдается
музыке, покорно следует за ней в какой-то иной мир - и снова видит себя
на пороге этого прекрасного мира, неразумным, доверчивым к миру щенком
на пароходе в Красном море...
- Да, так как это было? - не то снится, не то думается ему. - Да, помню:
хорошо было жить в жаркий полдень в Красном море! Чанг с капитаном
сидели в рубке, потом стояли на мостике... О, сколько было света,
блеска, синевы, лазури! Как удивительно цветисты были на фоне неба все
эти белые, красные и желтые рубахи матросов, с растопыренными руками
развешенные на носу! А потом Чанг с капитаном и прочими моряками, у
которых лица были кирпичные, глаза маслянистые, а лбы белые и потные,
завтракал в жаркой кают-компании первого класса, под жужжащим и дующим
из угла электрическим вентилятором, после завтрака вздремнул немного,
после чая обедал, а после обеда опять сидел наверху, перед штурманской
рубкой, где лакей поставил для капитана полотняное кресло, и смотрел
далеко за море, на закат, нежно зеленевший в разноцветных и
разнообразных тучках, на виннокрасное, лишенное лучей солнце, которое,
коснувшись мутного горизонта, вдруг вытянулось и стало похоже на
темно-огненную митру... Быстро бежал пароход вдогонку за ним, так и
мелькали за бортом гладкие водяные горбы, отливающие сине-лиловой
шагренью, но солнце спешило, спешило, - море точно втягивало его, - и
все уменьшалось да уменьшалось, стало длинным раскаленным углем,
задрожало и потухло, а как только потухло, сразу пала на весь мир тень
какой-то печали, и сильней заволновался все крепчавший к ночи ветер.
Капитан, глядя на темное пламя заката, сидел с раскрытой головою, с
колеблющимися от ветра волосами, и лицо его было задумчиво, гордо и
грустно, и чувствовалось, что все-таки он счастлив, и что не только весь
этот бегущий по его воле пароход, но и целый мир в его власти, потому
что весь мир был в его душе в эту минуту - и потому еще, что и тогда уже
пахло вином от него...
Ночь же настала страшная и великолепная. Она была черная, тревожная, с
беспорядочным ветром и с таким полным светом шумно взметывавшихся вокруг
парохода волн, что порою Чанг, бегавший за быстро и безостановочно
гулявшим по палубе капитаном, с визгом отскакивал от борта. И капитан
опять взял Чанга на руки и, приложив щеку к его бьющемуся сердцу, - ведь
оно билось совершенно так же, как и у капитана! - пришел с ним в самый
конец палубы, на ют, и долго стоял там в темноте, очаровывая Чанга
дивным и ужасным зрелищем: из-под высокой, громадной кормы, из-под глухо
бушующего винта, с сухим шорохом сыпались мириады белоогненных игл,
вырывались и тотчас же уносились в снежную искристую дорогу,
прокладываемую пароходом, то огромные голубые звезды, то какие-то тугие
синие клубы, которые ярко разрывались и, угасая, таинственно дымились
внутри кипящих водяных бугров бледно-зеленым фосфором. Ветер с разных
сторон, сильно и мягко бил из темноты в морду Чанга, раздувал и холодил
густой мех на его груди, и, крепко, родственно прижимаясь к капитану,
обонял Чанг запах как-бы холодной серы, дышал взрытой утробой морских
глубин, а корма дрожала, ее опускало и поднимало какой-то великой и
несказанно свободной силой, и он качался, качался, возбужденно созерцая
эту слепую и темную, но стократ живую, глухо бунтующую (Бездну. И порой
какая-нибудь особенно шальная и гяжелая волна, с шумом пролетавшая мимо
кормы, жутко озаряла руки и серебряную одежду капитана...
В эту ночь капитан привел Чанга в свою каюту, большую и уютную, мягко
освещенную лампой под красным шелковым абажуром. На письменном столе,
плотно уместившемся возле капитанской кровати, стояли там, в тени и
свете лампы, два фотографических портрета: хорошенькая сердитая девочка
в локонах, капризно и вольно сидевшая в глубоком кресле, и молодая дама,
изображенная почти во весь рост, с кружевным белым зонтиком на плече, в
кружевной большой шляпке и в нарядном весеннем платье, - стройная,
тонкая, прелестная и печальная, как грузинская царевна. И капитан
сказал, раздеваясь под шум черных волн за открытым окном:
- Не будет, Чанг, любить нас с тобой эта женщина! /Есть, брат, женские
души, которые вечно томятся какой-то печальной жаждой любви и которые от
этого от самою никогда и никого не любят./Есть такие - и как судить их
за всю их бессердечность, лживость, мечты о сцене, о собственном
автомобиле, о пикниках на яхтах, о каком-нибудь спортсмене, раздирающем
свои сальные от фиксатуара волосы на прямой ряд? Кто их разгадает?
Всякому свое, Чанг, и не следуют ли они сокровеннейшим велениям самой
Тао, как следует им какая-нибудь морская тварь, вольно ходящая вот в
этих черных, огненно-панцырных волнах?
- У-у! сказал капитан, садясь на стул, мотая головой и развязывая шнурки
белого башмака: - Что только было со мной, Чанг, когда я в первый раз
почувствовал, что она уже не совсем моя, - в ту ночь, когда она в первый
раз одна была на яхт-клубском балу и вернулась под утро, точно поблекшая
роза, бледная от усталости и еще неулегшегося возбуждения, с глазами
сплошь темными, расширенными и далекими от меня! Если бы ты знал, как
неподражаемо хотела она одурачить меня, с каким простым удивлением
спросила: "А ты еще не спишь, бедный?" Тут я даже слова не мог
выговорить, и она сразу поняла меня и смолкла, - только быстро взглянула
на меня, - и молча стала раздеваться. Я хотел убить ее, но она сухо и
спокойно сказала: "помоги мне расстегнуть сзади платье" - и я покорно
подошел и стал дрожащими руками отстегивать эти крючки и кнопки - и как
только увидел в раскрывшееся платье ее тело, ее междуплечье и сорочку,
спущенную с плеч и засунутую за корсет, как только услыхал запах ее
черных волос и взглянул в освещенное трюмо, отражавшее ее груди,
поднятые корсетом...
И, не договорив, капитан махнул рукой.
Он разделся, лег и погасил огонь, и Чанг, перевертываясь и укладываясь в
сафьянном кресле возле письменного стола, видел, как бороздили черную
плащаницу моря вспыхивающие и гаснущие полосы белого пламени, как по
черному горизонту зловеще мелькали какие-то огни, как оттуда прибегала
порою и с грозным шумом вырастала выше борта и заглядывала в каюту
страшная живая волна, - некий сказочный змей, весь насквозь светившийся
самоцветными глазами, прозрачными изумрудами и сапфирами, - и как
пароход отталкивал ее прочь и ровно бежал дальше, среди тяжелых и зыбких
масс этого довременного, для нас уже чуждого и враждебного естества,
называемого океаном...
Ночью капитан вдруг что-то крикнул и, сам испугавшись своего крика,
прозвучавшего какой-то унизительно-жалобной страстью, тотчас же
проснулся. Полежав минуту молча, он вздохнул и сказал с усмешкой:
- Да, да! "Золотое кольцо в ноздре свиньи - женщина прекрасная!" Трижды
прав ты, Соломон Премудрый!
Он нашел в темноте папиросницу, закурил, но, затянувшись два раза,
уронил руку - и так и заснул с красным огоньком папиросы в руке. И опять
стало тихо - только сверкали, качались и с шумом неслись волны мимо
борта. Южный Крест из-за черных туч...
Но тут внезапно оглушает Чанга громовый грохот. Чанг в ужасе вскакивает.
Что случилось? Опять ударился, по вине пьяного капитана, пароход о
подводные камни, как это было три года тому назад? Опять выстрелил
капитан из пистолета в свою прелестную и печальную жену? Нет, кругом не
ночь, нс море и не зимний полдень на Елисаветинской, а очень светлый,
полный шума и дыма ресторан: это пьяный капитан ударил кулаком по столу
и кричит художнику:
- Вздор, вздор! Золотое кольцо в ноздре свиньи, вот кто твоя женщина!
"Коврами я убрала постель мою, разноцветными тканями египетскими:
зайдем, будем упиваться нежностью, потому что мужа нет дома..." А-а,
женщина! "Дом ее ведет к смерти и стези ее - к мертвецам..." Но
довольно, довольно, друг мой. Пора, запирают, - идем!
И через минуту капитан, Чанг и художник на темной улице, где ветер с
снегом задувает фонари. Капитан целует художника, и они расходятся в
разные стороны. Чанг, полусонный, угрюмый, бочком бежит по тротуару за
быстро идущим и шатающимся капитаном... Опять прошел день, - сон или
действительность? - и опять в мире тьма, холод, утомление...
Так, однообразно, проходят дни и ночи Чанга. Как вдруг, однажды утром,
мир, точно пароход, с разбегу налетает на скрытый от невнимательных глаз
подводный риф. Проснувшись в одно зимнее утро, Чанг поражается великой
тишиной, царящей в комнате. Он быстро вскакивает с места, кидается к
постели капитана - и видит, что капитан лежит с закинутой назад головой,
с лицом бледным и застывшим, с ресницами полуоткрытыми и недвижными. И,
увидев эти ресницы, Чанг издает такой отчаянный вопль, точно его сшиб с
ног и пополам перехватил мчащийся по бульвару автомобиль...
Потом, когда не стоит на пятах дверь комнаты, когда входят, уходят и
снова приходят, громко разговаривая, самые разные люди - дворники,
полицейские, художник в цилиндре и всякие другие господа, с которыми
сиживал капитан в ресторанах, - Чанг как бы каменеет... О, как страшно
говорил когда-то капитан: "В тот день задрожат стерегущие дом и
помрачатся смотрящие в окно; и высоты будут им страшны, и на дороге
ужасы: ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его
плакальщицы; ибо разбился кувшин у источника и обрушилось колесо над
колодезем..." Но теперь Чанг не чувствует даже ужаса. Он лежит на полу,
мордой в угол, крепко закрывши глаза, чтобы не видеть мира, чтобы забыть
о нем. И мир шумит над ним глухо и отдаленно, как море над тем, кто все
глубже и глубже опускается в его бездну.
А снова приходит он в себя уже на паперти, у дверей костела. Он сидит
возле них с поникшей головой, тупой, полумертвый - только весь дрожит
мелкой дрожью. И вдруг распахивается дверь костела - и ударяет в глаза и
в сердце Чанга дивная, вся звучащая и поющая картина: перед Чангом
полутемный готический чертог, красные звезды огней, целый лес
тропических растений, высоко вознесенный на черный помост гроб из дуба,
черная толпа народа, две дивные в своей мраморной красоте и глубоком
трауре женщины, - точно две сестры разных возрастов, - а надо всем этим
- гул, громы, клир звонко вопиящих о какой-то скорбной радости ангелов,
торжество, смятение, величие - и все собой покрывающие неземные
песнопения. И дыбом становится вся шерсть на Чанге от боли и восторга
перед этим звучащим видением. И художник, с красными глазами вышедший в
эту минуту из костела, в изумлении останавливается:
- Чанг! - тревожно говорит он, наклоняясь к Чангу: - Чанг, что с тобою?
И, коснувшись задрожавшей рукою головы Чанга, наклоняется еще ниже - и
глаза их, полные слез, встречаются в такой любви друг к другу, что все
существо Чанга беззвучно кричит всему миру: ах, нет, нет - есть на земле
еще какая-то, мне неведомая, третья правда!
В этот день, возвратясь с кладбища, Чанг переселяется в дом своего
третьего хозяина - снова на вышку, на чердак, но теплый, благоухающий
сигарой, устланный коврами, уставленный старинной мебелью, увешанный
огромными картинами и парчовыми тканями... Темнеет, камин полон
раскаленными, сумрачно-алыми грудами жара, новый хозяин Чанга сидит в
кресле. Он, возвратясь домой, даже не снял пальто и цилиндра, сел с
сигарой в глубокое кресло и курит, смотрит в сумрак своей мастерской. А
Чанг лежит на ковре возле камина, закрыв глаза, положив морду на лапы.
Кто-то тоже лежит теперь - там, за темнеющим городом, за оградой
кладбища, в том, что называется склепом, могилой. Но этот кто-то не
капитан, нет. Если Чанг любит и чувствует капитана, видит его взором
памяти, того божественного, чего никто не понимает, значит, еще с ним
капитан: в том безначальном и бесконечном мире, что не доступен Смерти.
В мире этом должна быть только одна правда, - третья, - а какая она -
про то знает тот последний Хозяин, к которому уже скоро должен
возвратиться и Чанг.
1916, Васильевское
|